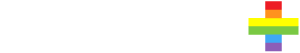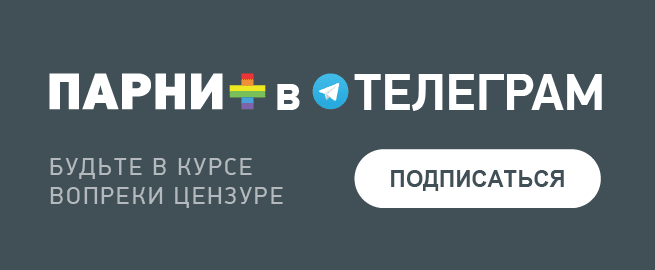В предыдущих частях мы рассмотрели различные факторы, способствующие обращению ЛГБТ-людей к множественным формам самолечения, в частности, обращению к употреблению психоактивных веществ (ПАВ). Мы описали модель «зависимость как самолечение», обратились к модели синдемии, социально-экологической модели, принципу охвата всех этапов жизни, метафоре дисфункциональных систем. В этой части мы опишем метафору травмы и то, какое значение для формирования зависимого поведения имеют индивидуальные, коллективные, культурные и исторические травмы, с особым фокусом на российском контексте.
Метафора «травмы».
Слово «травма» в переводе с греческого, означает «рана». Обычно всё понятно, когда речь идёт о физических травмах или ранах: их можно увидеть и вылечить. Но когда речь заходит о психических и психологических травмах, не всё кажется столь очевидно. Это происходит в том числе потому, что психиатры, психотерапевты, психоаналитики и психологи продолжают активно обсуждать как саму природу травмы, так и всё разнообразие способов её преодоления. И, например, в Американской психологической ассоциации есть отдел Психологии травмы (Отдел №56 ).
Существует множество определений психических и психологических травм. Например, такое: «Понятие “психическая травма” имеет в виду вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате интенсивного влияния неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий других людей на его психику» (Мазур-Марецкая Е.С. Психическая травма и психотерапия // Консультативная психология и психотерапия. 2003. Том 11. № 1. ).
Медики, занимающиеся исследованием влияния внутриутробного развития плода, говорят о том, что травмирующие события, которые происходят с матерью (особенно хронический стресс)., оказывают травмирующее воздействие и на плод. Никакой мистики: простая психофизиология – огромное количество гормона стресса, который вырабатывается в организме матери непосредственно влияет на плод, вызывая «стресс-программирование» (ист. ).
Комплексные представления о «травме рождения» впервые, ещё в 1924 г., предложил психоаналитик Отто Ранк. В последствие его идеи получили развитие и переосмысление в трудах психиатра Станислава Гроффа в рамках трансперсональной психологии. В обыденном сознании роды принято недооценивать в контексте формирования психологического благополучия человека. Однако существуют свидетельства определяющего значения «травмы рождения» или «родовой травмы» как «первичной травмы» для возможного развития различных форм зависимого поведения (см., напр. Кристина Грофф Жажда целостности. Наркомания и духовный путь и Геральд Блюм. Психоаналитические теории личности).
Иногда можно встретить точку зрения, что психологическая травма «не реальна». Однако, как показали нейробиологические исследования, это не так: травма оставляет глубокий отпечаток в мозге человека и далее человек имеет дело с её последствиями, которые также реальны, как и сама психологическая травма. Именно эти реальные последствия травмы и могут проявляться в стрессовом синдроме или в посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) как предельном состоянии невозможности изжить влияние травмирующего опыта на психику человека. Будет ли какое-то конкретное событие травмирующим для конкретного человека – предсказать невозможно. Одни и те же события одних людей могут травмировать, а других – нет, кого-то могут травмировать больше, кого-то меньше. У кого-то переживание травмирующего события будет вызывать развитие триггеров (пусковых механизмов, запускающих процесс возвращения переживания травмы), а у кого-то нет. У кого-то в одних и тех же ситуациях триггеры будут одинаковые, а кого-то отличаться. У кого-то травмирующее событие будет вытесняться в бессознательное, у кого-то нет. Вытесненный травматичный опыт может создавать сложный комплекс проекций и переносов. Кого-то наличие старой травмы может приводить к ретравматизации (т.е. когда на старую травму накладывается новая), а кого-то нет. Именно наслоение различных травм друг на друга создаёт для человека наиболее сложную ситуацию. Максимально подробную информацию о нейробиологии и психофизиологии травмы можно найти в книге Ван дер Колка «Тело помнит всё. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть», а также в книге Стивена Джозефа «Что нас не убивает. Новая психология посттравматического роста».
Но кроме индивидуальных существуют и коллективные травмы. «Коллективная травма – это комплекс психологических ощущений, возникающий у очевидцев или участников определенного трагического события и являющийся общим, но при этом в полной мере не передаваемым опытом не просто выживания, но и последующего переживания данной ситуации» (Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №425.).
Война, теракт, авария или техногенная катастрофа (например, взрыв Чернобыльской АЭС, захват школы в Беслане, Чеченская война) – это коллективные травмы. Участие в протестной акции или гей-прайде, когда к участникам применяется физическое насилие со стороны полиции и гомофобных группировок – это коллективная травма. Для тех, кто пережил нападение на ЛГБТ-комьюнити-центры или гей-клубы этот опыт также коллективная травма. Или же часть тех людей, кто был свидетелем, даже по телевидению, теракта 11 сентября 2001 года, когда самолёты врезались в Башни близнецы в Нью-Йорке, также получили психологическую коллективную травму. Люди пережили вместе или были свидетелями травмирующего события и этот опыт переживается участниками не только как индивидуальный, но и как коллективный. Более того, совместное переживание травматичного коллективного опыта формирует новые общности, группы, сообщества. И, как показывают исследования, последующая коллективная психологическая проработка этого опыта оказывается достаточно эффективной (см., напр., Ван дер Колк «Тело помнит всё»).
Однако воздействию коллективной травмы подвержены не только непосредственные участники или её свидетели, но и последующие поколения. Впервые об этом заговорили в 1966 г., когда канадский психиатр Вивиан М. Ракофф и её коллеги обнаружили, что дети людей, переживших Холокост, имеют симптомы ПТСР, связанные с опытом своих родителей. В последствии эти наблюдения неоднократно подтверждались и были зафиксированы не только у детей людей, переживших травму, но и у их внуков. Также справедливость использования модели травмы была подтверждена при исследовании афроамериканцев, потомков тех, кто пережил рабство. В 2005 г. была опубликована знаковая для исследования коллективной травмы монография Джой Дегрей «Посттравматический рабский синдром: Американское наследие от непреходящей травмы и исцеления» (Joy DeGruy «Post Traumatic Slave Syndrome: America’s Legacy of Enduring Injury and Healing»). В настоящее время психологи и психиатры говорят о трансгенерационной (межпоколенческой) травме, т.е. о наследии травмы, которое передаётся из поколения в поколение. В частности, исследованиям в этой области был посвящён большой обзор в журнале американской психологической ассоциации «Monitor on Psychology» (2019, Vol 50, No. 2) Тори Деанджелис «The legacy of trauma» .
Поскольку эту тему исследуют учёные разных специальностей, не только психологи и психиатры, но и историки, социологи, антропологи, культурологи, то здесь наблюдается методологическое и терминологическое разнообразие, а само междисциплинарное направление получило название Trauma Studies – Исследования травмы .
Так, в зависимости от того, какой подход использует исследователь, могут говорить о исторических, национальных или культурных травмах. Так или иначе, этот тип травмы складывается не только из самого травмирующего события, но организации памяти о нём или вытеснение памяти о нём на уровне группы, сообщества, народа, а также этот опыт связан с чувством онтологической безопасности (подробнее см. Вамик Волкан и Рональд Лэйнг).
Это позволяет понять системный характер культурной/исторической травмы. «С социальной точки зрения травма не является единичным событием, она представляет собой определенную последовательность действий, разворачивающуюся на протяжении многих лет, специфическую форму социальной практики, поэтому корректнее говорить не о травме, а о травматизации как процессе» (Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти).
Как отмечает Гилад Хиршбергер (Gilad Hirschberger): «Понимание воздействия травмы на коллективные смыслы становится еще более сложным, если учесть то, что Примо Леви определил как серую зону – туманную область, в которой различие между жертвами и преступниками не всегда четко очерчено, а жертвы могут вести себя как преступники, а преступники как жертвы. Члены групп, которые существуют в этой области коллективной памяти, часто мотивированы защищать свою историю таким образом, чтобы подчеркнуть те жертвы, которые претерпела их группа и преуменьшить преступления ею совершённые. Эти группы могут также участвовать в конкурентной динамике виктимности с другими группами, требующими признания настоящей жертвой их. Иногда виктимизация одной группы представляет собой такую угрозу для другой, не связанной с ней виктимизированной группы из-за ощущения того, что ее виктимизация затмевается и не получает должного внимания и признания» (Collective Trauma and the Social Construction of Meaning // Front. Psychol., 10 August 2018).
При этом у учёных есть всё больше свидетельств о том, что культурная травма передаётся не только за счёт психологических механизмов, но и на биологическом уровне. Об этом говорят эпигенетические исследования. Обширный обзор на эту тему можно найти в статье Amy Lehrner и Andrachel Yehuda «Cultural trauma and epigenetic inheritance» (Development and Psychopathology, 30(5), 1763-1777. Cambridge University Press, 2018 ).
Российские особенности, приводящие к самолечению.
Люди обращаются к самолечению в тех случаях, когда им необходима помощь, но получить её, в силу разных причин, невозможно. Эта невозможность может быть обусловлена, например, тем, что человек не идентифицирует собственную травму, которая вытеснена в бессознательное. Или человек может считать неприемлем для себя обращение к психологу/психотерапевту. Или помощь может быть недоступна из-за места жительства человека и отсутствия необходимых специалистов. Во всех этих ситуациях человек будет стремиться уменьшить свои страдания доступными для него способами.
Очевидно, российская история была богата на различные травматичные события, которые в основной своей массе остаются вытесненными на периферию сознания. О многих из них предпочитают не говорить, поскольку зачастую не имеют языка говорения об этом опыте. И если обратиться к социально-экологической модели, то можно обнаружить травмирующие события на каждом из уровней этой системы. При этом каждое травмирующее событие эхом отзывается на других уровнях, не просто оказывая на них воздействие (рекурсия), но усиливая их последствия (синергетический эффект). И все эти травмирующие события влияют на психическое здоровье и психологическое благополучие отдельных людей, групп, сообществ, этносов и т.д. При том эти психологические страдания могут быть совершенно не связаны с индивидуальным опытом человека, а быть выражением исторической коллективной травмы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди ищут доступные средства облегчения психологического страдания и такими средствами могут оказываться различные формы зависимого поведения от зависимости от алкоголя и ПАВ до зависимости от любви, романтических отношений, секса, сериалов или трудоголизма.
Я не буду углубляться в историю и вспоминать крепостное право и всю колониальную и имперскую историю царской России, которая, тем не менее, продолжает оказывать влияние и на сегодняшние поколения (см., напр., Александр Эткинд «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России»). Не вдаваясь в подробный историко-культурологический анализ, я перечислю, крайне фрагментарно, некоторые события ХХ века, которые запустили различные процессы травматизации людей, населяющих территорию современной России (список не закрытый и не исчерпывающий):
- три революции (1905 года, февральская и октябрьская 1917 года) и последовавший за ними передел власти, коренная смена политического, идеологического и экономического режима;
- Первая мировая война;
- Гражданская война;
- локальные колониальные войны за «присоединение к Советской России»;
- индустриализация и коллективизация;
- политические репрессии, красный террор, раскулачивание, ГУЛАГ;
- сталинская депортация народов;
- Голодомор и другие локальные катастрофы;
- репрессии против верующих и религиозных меньшинств;
- Вторая мировая война;
- оккупация стран Прибалтики;
- послевоенная борьба с инакомыслием, включая расцвет карательной психиатрии;
- моральные паники, связанные с «Холодной войной»;
- локальные травмы подавления бунтов (например, Новочеркасский расстрел 1962 г.);
- Афганская война;
- авария на Чернобыльской АЭС;
- распад СССР и социально-экономические потрясения 1990-х;
- 1-я и 2-я чеченские войны;
- процесс утраты исторической памяти.
На английском существует обширный корпус текстов, рассматривающий историю России с точки зрения метафоры травмы. Однако по-русски публикаций не много. Поэтому важно упомянуть сборник статей «Травма: Пункты» под редакцией Сергея Ушакина и Елены Трубиной (М.: Новое литературное обозрение, 2009), который затрагивает многие важные как теоретические вопросы, так и конкретные исторические сюжеты. В частности, в этом сборнике обозначаются направления, в рамках которых происходит «изучение травмы в гуманитарных и общественных науках: травма как опыт утраты, травма как символическая матрица и, наконец, травма как консолидирующее событие» (стр. 8).
Исследователи говорят о том, что феномен утраты исторической памяти, неадекватное обращение с культурой памяти само по себе является отдельным травматичным процессом (см., напр., Александр Эткинд «Кривое горе. Память о непогребенных» (М.: Новое литературное обозрение, 2016)). Мы это видим на примере сознательной государственной политики конструирования памяти о годах Второй мировой войны, которая не приводит к реальной проработке этой травмы, но становится ещё одним элементом биовласти, становясь механизмом контроля со стороны государства.
Советская травма или травма советским – многогранна, но она состоит не только из каких-то конкретных событий, которые случались с конкретными людьми или сообществами. Как отмечает Илья Кукулин: «Сегодня психологи, антропологи и историки культуры пишут о том, что травматическим было не только нахождение в концлагере, но и «обычная» жизнь в условиях относительной свободы в тоталитарных обществах: бессудное ежедневное исчезновение людей вызывало чувство ужаса и бессмысленности, которые сублимировались по-разному. В СССР в 1937 году эта сублимация колебалась в диапазоне от параноидального поиска «вражеских» знаков, например портрета Троцкого, на тетрадках и школьных учебниках, откуда были уже вырезаны портреты «врагов народа», до болезненного интереса к романтике Гражданской войны, когда тоже можно было погибнуть в любой момент… Советская цензура десятилетиями запрещала обсуждать многие из проблем, связанные с пленом, жизнь остарбайтеров, то есть людей, угнанных в Германию на работы, этническую избирательностью нацистского террора (геноцид евреев и цыган), мучительные переживания во время ленинградской блокады, депортации народов Северного Кавказа, немцев Поволжья, калмыков, крымских татар… Это замалчивание и его иногда прорывавшиеся псевдоблагородные объяснения (тем, кто хотел говорить подробнее о ленинградской блокаде, отвечали, что нужно помнить прежде всего о героях и о победе) в совокупности порождали у людей чувство вины и формировали в общественном сознании табуированные темы, о которых люди не могли поговорить даже сами с собой, не только с окружающими. До сих пор это умолчание оказывает скрытое воздействие на российскую культуру, порождает отложенные эффекты «постпамяти», когда неврозы передаются от родителей к детям на протяжении нескольких поколений» (Илья Кукулин. FAQ: Историческая травма как культурное явление).
Отдельно отмечу, что все эти социальные, идеологические и экономические трансформации неизбежно влияли на гендерную сферу. Люди получали и усваивали противоречивые послания относительно своих гендерных ролей, которые стремились воплотить в своих жизнях. Но в результате зачастую испытывали фрустрацию потому, что не могли соответствовать идеализированным гендерным нормам. Подробнее см. Елизавета Мусатова «Половая запутанность: как изменились гендерные сценарии в России за последние 200 лет» . И эта «гендерная травма» также передавалась из поколения в поколение, воспроизводя в людях то, что сейчас принято называть «токсичной маскулинностью» и «токсичной фемининностью».
Влияние тюремной культуры на российское общество, фактический переход каких-то пластов этой культуры с уровня локального андеграунда в мейнстрим, также может пониматься, с одной стороны, как последствие травмы, которую пережили люди, оказавшиеся в советских и российских тюрьмах, а, с другой стороны – как процесс травматизации тюремной культурой всего российского общества. Не в последнюю очередь этот процесс затронул как представления, так и практики, касающиеся гендерной системы в аспекте конструирования особых типов мужественности и женственности, а также особого отношения к сексуальности, в том числе гомосексуальности. Распространение тюремной гендерной идеологии затрагивает не только заключённых и сотрудников мест лишения свободы, но и более широкие круги российского общества.
Другой важной особенностью советской травмы была и остаётся атомизация общества: подрыв доверия между людьми и разрушение сообществ. «Тоталитарный режим опирается на одиночество личности, реальность, которую он активно продвигает посредством своей политики разделения общества на изолированных (неэффективных) индивидов, навязывания им государственной идеологии и систематического использования террора», – отмечает Riadh T. Abed в статье «Tyranny and mental health» (British Medical Bulletin, Volume 72, Issue 1, 2004. ).
Сообщества, как сейчас уже хорошо известно благодаря психологии сообществ, являются важными элементами системы поддержки. Человеку недостаточно иметь связь исключительно со своей семьёй. Для лучшего психического здоровья и психологического благополучия человеку необходимо принимать участие в жизни своего сообщества – не важно религиозного, национального, сексуального, спортивного. Однако, как отмечает инфекционист Михаил Фаворов: «Победители схватки за коммунистическое будущее, политическую идею начала прошлого века, хорошо понимали угрозы лозунгов типа «Communities make the difference» («Сообщества играют решающую роль» – слоган 1 декабря 2019 г., который и не понравился г-ну Фаворову – прим. ТС ), потому-то и ликвидировали земства, уничтожили кулачество (читай крестьянство), разгромили кочевья и таборы, скиты и хутора, разночинные организации и все подобные неконтролируемые человеческие объединения. Все комьюнити, которым разрешили остаться в живых, стали коллективами, и обязательно «шибко партийными»» (Михаил Фаворов: «Сообщество обычных людей»).
Поэтому у многих людей, выросших в СССР, сохранилось недоверие ко всему, что подразумевает какие-то коллективные действия и объедение. И когда г-н Фаворов, «один из крупнейших инфекционистов в мире», расписывается в своём неприятии того, что сообщества являются одним из ключевых элементов в системе поддержки, то это скорее говорит о его личной непроработанной травме советским коллективизмом, чем о подходе, действительно основанном на доказательных данных. Хороший инфекционист не должен быть хорошим социальным психологом, однако понимать динамику роста эпидемий в различных группах – должен: собственно, в этом и заключается смысл эпиднадзора. Но травма советским коллективизмом заставляет многих российских специалистов искать «особый российский путь» как профилактики ВИЧ, так и наркополитики. Так и ЛГБТ-сообщество уже более 20 лет продолжает задаваться вопросом «Что такое сообщество?». Однако, как отмечает психотерапевт Елена Миськова: «У каждого из нас должен быть свой ресурс приятия и признания, и это, конечно, про сообщество. Вещи, которые касаются коллективности и социальности, лечатся коллективным и социальным. Они лечатся через принадлежность к чему-то, что тебе может дать такую обратную связь, такое признание и понимание, которое тебя удержит в рамках привязанности к жизни» (Елена Миськова: «Угнетенный человек высказывается, но не речью»).
Важным аспектом межпоколенческой травмы является отсутствие или нарушение связи между поколениями. На Западе этот вопрос хорошо исследован в контексте травмы коренных народов Америки: «Мы много слышим о потере чувства общности, потере связей между поколениями… Это действительно глубокая боль, глубокая боль – почти тоска по тому, что было раньше», – говорит социолог Мелисса Уоллс, доктор философии из Медицинской школы Университета Миннесоты» (ист.). Это может показаться парадоксальным: с одной стороны, говорится о том, что травма передаётся от поколения к поколению, а с другой стороны – о нарушении связи между ними. Да, действительно данная амбивалентность присутствует. В России это связано как с советским разрушением сообществ и базового доверия между людьми, так и в целом развития сценариев дисфункциональных систем, в которых выражать свои истинные мысли и чувства непринято. И поколения родителей и поколения детей отчуждены от своих эмоций, своей семейной истории и друг друга. В российском контексте именно советский эксперимент повлиял на эту потери связи между поколениями, поскольку разрушение традиционных структур лишило людей важного опыта, формировавшего их психологические структуры, который ранее они получали через участие в различных практиках обрядов перехода или инициаций. На материале западных обществ об этом пишет Луиджи Зойя итальянский психоаналитик, много лет работавший с зависимыми от различных ПАВ, в своей книге «Наркомания: патология или поиск инициации?».
Современное российское общество уже не тоталитарное, однако последствия тоталитаризма для психического здоровья граждан так и не были не только проработаны, но и достаточно осмыслены. И эти последствия продолжают оказывать своё влияние, приводя, в том числе, к движению те сценарии, которые приводят людей к необходимости самолечения. Однако и политический строй современной России – путинский авторитаризм – вносит немалый вклад в то, чтобы граждане находились в длящемся, ежедневно воспроизводящимся режиме выживания и процессе ретравматизации.
Авторитарный политический режим конструируют акторы, имеющие своеобразную психологическую конституцию. Традицию исследования этих акторов заложили Вильгельм Райх (напр., «Психология масс и фашизм»), Эрих Фромм (напр., «Бегство от свободы», «Анатомия человеческой деструктивности»), Теодор Адорно (напр., «Исследование авторитарной личности»). В современной литературе говорится о том, что авторитаризм – это «тип травматического ответа» и подчёркивается связь авторитаризма с ненадёжной привязанностью (см. Antigonos Sochos. Authoritarianism, trauma, and insecure bonds during the Greek economic crisis // Current Psychology (2019) ). То, что исследователи стали использовать теорию привязанности, которую начал разрабатывать Джон Боулби для объяснения взаимодействия детей и родителей, для объяснения групповых и более широких социальных и политических процессов, свидетельствует о развитии понимания значения раннего детского опыта для всей последующей жизни не только отдельного человека как политического актора, но также групп и сообществ в пространстве политического взаимодействия.
Жизнь в авторитарном государстве – это дополнительный ежедневный хронический стресс. И если люди не уходят во «внутреннюю эмиграцию», игнорируя события, происходящие во внешнем мире, а следят за новостями, то они испытывают вторичный стресс, эффект от которого увеличивается от вовлекаемости в постоянно нагнетаемы моральные паники по разному поводу. При том не имеет значения, к какому политическому спектру принадлежит человек, поскольку моральные паники нагнетаются как провластными, так и оппозиционными медиа. Фактически общество моральной паники является обществом культурной войны, когда оно поляризовано на основании различных культурных ценностей (наиболее ярко это проявляется по всему спектру гендерных вопросов, наркополитике, отношении к экспансии России на территорию Украины и т.д.). Впервые этот феномен был описан в ранние 1990-е на материале США. Однако с тех пор культурная война стала действительностью и для России. В этом смысле, любые зависимости, в том числе химсекс, как адаптивные стратегии избегания встречи с невыносимой реальностью, оказываются способом бегства от авторитаризма и гетеросексизма, пространством «иллюзорной гетеротопии отклонения», по Мишелю Фуко.
Кроме тоталитарного и авторитарного характера советской власти, не следует упускать из вида и её (нео)колониальный характер. Исследователи и политики продолжают спорить можно ли считать СССР колониальным государством (см. напр., проф. Сергей Абашин «Был ли Советский Союз колониальной империей?» ). И независимо от того, какой позиции будут придерживаться политики и исследователи, «колониальная травма» будет реальной для тех, кто о ней говорит, для тех, кто считает, что его народ подвергся колонизации со стороны советской власти. Реальность этой травмы можно наблюдать и для потомков тех, кто был в роли колонизаторов, когда они воспроизводят советский дискурс о «единстве народов», за которым скрывается тоска по имперскому советскому прошлому и болезненное нежелание признать, по меньшей мере неоднозначность, проводившейся советским руководством политики в данной сфере. Потомки колонизаторов уходят в глухое отрицание исторических фактов, вступают в горячие политические дискуссии, с единственным желанием – сохранить привычную им ментальную карту и воспринятую с детства мифологему о «союзе братских народов», что, в общем, свидетельствует о болезненности и непроработанности для них этой темы.
Таким образом, если совместить социально-экологическую модель с метафорой травмы, то мы видим, что на каждом уровне этой системы россияне находятся в состоянии дистресса (т.е. постоянного, фонового стресса), который также кумулятивно возрастает, поскольку у людей нет возможности выйти из травмирующего контекста к посттравматическому росту. То есть здесь также срабатывает принцип рекурсии. Неспособность каким-либо образом повлиять на ситуацию с её положительным разрешением способствует усилению чувства выученной беспомощности и социального стокгольмского синдрома (понятие «социальный стокгольмский синдром» используется для описания социального принципа, когда подвергшиеся насилию, защищают тех, кто против них использовал насилие. См. Graham, Dee, Edna Rawlings, and Roberta Rigsby. Loving to Survive: Sexual Terror, Men’s Violence and Women’s Lives. New York: New York University Press. 1994.). У части людей выученная беспомощность может сочетаться с «верой в доброго царя», которая также своими истоками обязана непроработанной многовековой культурной травме. На фоне этого оживает непроработанная травма советским тоталитаризмом, которая зачастую оказывается единственным каналом межпоколенческой связи. Отсутствие разрушенных в советское время сообществ не даёт многим людям дополнить свою систему поддержки важным ресурсом. Появившиеся в постсоветское время сообщества оказались достаточно хрупкими и не смогли противостоять направленной против них авторитарным государством репрессивной политике, либо члены этих сообществ были вынуждены уйти в глухую оборону и начать процесс дезинтеграции с остальным обществом, что приводит только к маргинализации их представителей. У людей подорвано чувство безопасности на всех уровнях (см. Зотова О.Ю. Представления о безопасности россиян как индикатор психологического благополучия общества // Интегративная перспектива в гуманитарных науках №1-2018 ). В результате общество продолжает атомизироваться и невротизироваться и многие люди живут с не диагностируемым ПТСР, в том числе потому, что психиатры не рассматривают путинскую авторитарную повседневность как значимый контекст для его возникновения, лишая тем самым людей возможности получить необходимую им помощь.
В этом смысле «диагностировать» состояние российского общества можно через анализ популярной культуры. Известно, что чувство печали является одним из маскировочных чувств: когда человек в силу разных причин не может выразить неудовлетворённость своим положением, не может изменить своё положение, не видит перспектив и не может выразить в связи с этим свой гнев, то гнев трансформируется в меланхолию, тоску, которая начинает разрушать человека изнутри, а человек начинает практиковать различные формы пассивно-агрессивного поведения и аутоагрессию. Если принять это во внимание, то становятся понятны истоки традиционного для русской культуры ощущения безнадёжности. «Русская тоска», «русская печаль», «русская смерть», «русская хтонь» – все эти тропы выражают выученную беспомощность. В качестве иллюстраций можно вспомнить культурные тексты последних лет: творчество IC3PEAK, песню БГ «Время наебениться» (2017), песню группы кис-кис «Молчи» (2019), альбом Дельфина «Край» (2019), в котором каждый трек развёртывает картину непроработанной культурной, социальной и политической травмы россиян или творчество ATL, в котором интертекстуальный наркореализм сочетается с депрессивным этнофутуризмом. Очевидно, что общий депрессивный фон, ощущения безнадёжности, бессилия и отсутствия перспектив («Будущего нет»), влияет на употребление ПАВ и побуждает россиян обращаться к различным формам самолечения или саморазрушения, что на практическом уровне может оказываться идентичным.
В следующей части мы рассмотрим какой травматичный опыт, характерный для жизни ЛГБТ-людей, может приводить к самолечению, в частности к употреблению ПАВ.
Ссылки на всю серию материалов:
«Умираю в России»: Часть 1. ЛГБТ-сообщество, травма, зависимость и самолечение.
«Умираю в России»: Часть 2. Как жизненный путь ЛГБТ-людей может привести к зависимостям
«Умираю в России»: Часть 3. Семья, дисфункциональные системы и зависимость от ПАВ
«Умираю в России»: Часть 4. Травма и зависимость от ПАВ
«Умираю в России»: Часть 5. Стресс меньшинства и зависимость от ПАВ.
Текст: Тимофей В. Созаев (автор телеграм-канал Заметки на полях )
Автор благодарит Марину Владимирову (телеграм-канал Закрытая тема ), Ярослава Распутина (телеграм-канал Дневник пидора-провинциала ), Евгения Писемского, Максима Малышева, Владимира Коханевича, Ника Кормакова, Маргариту Татарченко, Игоря Синельникова (телеграм-канал Радикальный гей ), Владана Райнса (телеграм-канал Irek van VR ) за обратную связь по тексту и Терри Каванах за поддержку во время написания текста. За все неточности в тексте несёт ответственность автор.
Материал опубликован в рамках кампании: «Преследуй стигму, а не людей!»