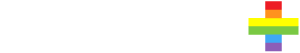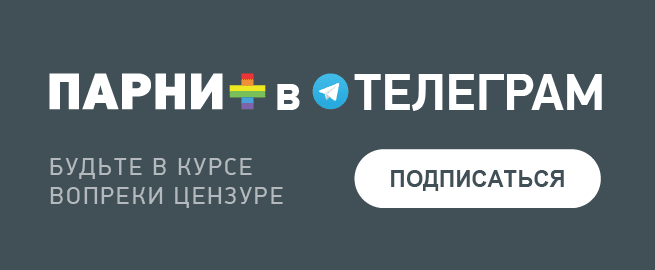Рассказываем истории русскоговорящих ЛГБТК-людей, эмигрировавших в другие страны
Продолжаем публиковать истории русскоговорящих ЛГБТК-людей, которые приняли решение эмигрировать в другие страны.
Николай Иванов — кандидат наук, искусствовед, правозащитник и гей, уехавший в Германию в Берлин. Он делал экспертизу в деле Юлии Цветковой и Ильи Хржановского, работал с Петром Павленским и арт-группой «Война», а также стоял у истоков «Последнего адреса» в Петербурге.
Команда проекта «Исходники» поговорила с Николаем о его жизни, современном искусстве, порнографии, о национальности у художников и обсудила будущее искусствоведения в России. Что рассказал Николай — читайте ниже!
Можешь представиться? Сколько лет, откуда родом, где сейчас находишься?
Меня зовут Николай Иванов, мне 50 лет и сейчас я нахожусь в Берлине. Родился в Таллине, но когда мне было 5 лет, мы переехали в Санкт-Петербург. А уже в 44 года, в 2017-м году, я эмигрировал.
Ты патриот?
Атака в лоб! Как бы уйти от того, что называется турбо-патриотизмом, и не сказать ничего, что соответствовало бы пустым фразам. Я гораздо больше люблю Россию, чем те люди, которые сейчас ей управляют, в этом я уверен. Но как она выражается — эта любовь, эта страсть — я не очень осознаю.
Я уехал из России, и у меня остались связи с ней, но я начал строить жизнь в другом месте. Воспринимаю себя больше человеком мира, нежели человеком, который навсегда привязан к России.Слово «патриот» замазывается. С ним произошло тоже самое, что и со словом “фашист”, только в обратную сторону. Последнее сейчас не звучит столь ужасающе, как во времена моей юности.
Естественно, я был в каком-то смысле жертвой советской пропаганды. Но то, как оно используется сейчас, когда им разбрасываются направо и налево, приводит к тому, что внутри ничего не вздрагивает, когда ты слышишь его. В моем сознании это слово ушло из эмоционального строя. Я сейчас вообще не думаю о том, оскорбляет ли это кого-то или нет. То же самое произошло и со словом «патриот»: кто-то прилепил его к ватнику, но тем хуже для тех, кто считает, что это так. Мы должны от этого дистанцироваться.
Я могу включить поэта и начать рассказывать про берёзки, запахи, тонкость русской речи, самых лучших сексуальных партнёров и спутников по жизни, которые должны быть только из России, потому что только так может обеспечиваться максимальная сходимость душ и тел, начать перечислять авторов, которые повлияли на меня и писали на русском языке, заложив во мне внутренний фундамент — и это, конечно же, патриотизм. Но сейчас за ним шлейфом тянется то, что используется прежде всего пропагандистами. Это ведёт к обесцениванию слова и смысла. Но да, я патриот.
Я понял, что ты фактически всю жизнь прожил в Питере. Где ты там жил?
В Питере я жил во многих местах — и на юге, и на севере, и в Красном Селе, и на Охте, и в Кировском районе. В 16 лет поступил в свой первый вуз. У меня три высших образования: ФИНЭК, «Кулёк» и философский факультет СПбГУ. А также кандидатская степень, которую я писал в Университете технологий и дизайна. Её я начал писать еще в «Мухе».
На своём жизненном пути я радикально сменил сферу деятельности, уйдя в искусство, в преподавание, в экспертизу. Первый мой вуз был финансово-экономический, там я поступил на международные экономические отношения. Только будучи на 4-м курсе понял, что это не моё. Тогда я поступил в “Кулёк” — днём учился в ФИНЭКе, а вечером в Кульке. Потом ещё поступил на 5 лет в СПбГУ на культурологию на философский факультет, скрыв свои высшие образования.
Некоторое время был хранителем и преподавателем в музее прикладного искусства в художественно-промышленной академии. Хранил там живопись, графику, скульптуру, мозаику, металл и преподавал это студентам, а затем перебрался в Университет технологий и дизайна, где стал доцентом и кандидатом наук, а также был заведующим кафедрой в течение года.
Почему ушел из художественно-промышленной академии?
Честно говоря, гомофобия была одной из существенных причин. Я стал ощущать ее в музее. Пример: на новый год на музейном собрании в присутствии директора и всех глав научных отделов обычно рассказывают о том, как комплектовался музей, и одну из важных ролей в формировании коллекции сыграл Александр Половцов. Начинается его обсуждение и доходит до его сыновей, один из которых был геем.
Тут мне прилетает вопрос: «Коля, а ты не знаешь, как становятся пидорасами?»
А я был совершенно закрыт тогда. Не понимал, как на это отвечать, и как ловить эти копья, как выставлять щиты. Это сейчас у меня нет никаких проблем с этим, а тогда я густо покраснел. Так я стал замечать, что ко мне начинает меняться отношение. При этом в «Мухе» заявляли, что лучше меня долгие годы никого не было на этой должности.
Были еще нюансы, которые до меня доносились. В академии стали закручивать гайки в отношении меня, и я ушёл оттуда. Через несколько лет, написав книгу «Словарь орнамента» (книгу по герменевтике бессюжетных форм) и уже живя в Берлине, я встретил в один из своих приездов в Питер зама по науке.
Тогда я в шутку спросил, приняли бы они меня обратно на работу. На что получил ответ, что, конечно бы, приняли, но если бы я им показал жену и ребёнка привёл. Я подумал, как хорошо, что я оттуда ушел.

Это же просто лицемерие: для них главное, чтобы ты внешне вписывался в контур современной российской парадигмы, и на самом деле им не важно, с кем ты дома спишь.
Ты знаешь, в моей жизни это не так. Может быть это связано с тем, что я пятидесятилетний, и мы пошли первыми, когда начали обсуждать закон (о запрете “ЛГБТ-пропаганды” среди несовершеннолетних — прим. ред.), а окружение людей, которые помоложе, уже иначе относилось к тому, что они принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Я потерял человек 15 из своего окружения.
Страшно было то, как люди изменились. Они вдруг поняли, что мы есть в обществе, что мы враги, и что дана отмашка, что нас можно атаковать. Несколько человек из ближнего круга пожелали мне смерти. Например, мой школьный друг, друг детства Максим, который стал священником, просто написал мне письмо со словами «пидорасам — бой».
А когда ты открылся?
Когда обсуждался закон. Эти люди, спасибо им большое, катализировали моё открытие. Я вдруг понял, что столько людей знают обо мне, раз они стали писать мне эти чудовищные письма.
Мне начали говорить при встрече, что нужно найти жену, что нужно заниматься традиционным искусством, что когда приведу им свою девушку, то они продолжат общаться. Помню, соседи написали мне на двери квартиры «гей-инфекция» и «пидорас лечись».
А когда ты осознал себя геем?
Думаю, что ещё лет в 5-6. Ещё в детском саду.
А когда принял себя?
Лет до 18-ти я думал, что занимаюсь сексом с парнями, поскольку у меня просто такой этап развития, что все этим занимаются. Что потом, лет в 20, произойдёт «переворот» — я стану таким, как надо, и у меня появится жена. Но к двадцати годам ничего не изменилось. Я просто стал больше проявлять себя в обществе, искать «своих», общаться с ними. Но окончательное принятие произошло после закона о запрете “ЛГБТ-пропаганды” среди несовершеннолетних.
У тебя был YouTube-канал. Почему ты его забросил?
Работы очень много сейчас. Да и в первое время после начала войны я просто не мог ничего делать. Я вообще не помню первые месяцы, когда бегал на вокзал, волонтерил — ничего не помню. Помню только лица украинских беженцев, прибывающих на вокзал.
Я тогда был в полном дисбалансе и рыдал каждую ночь. Понимал, что работа — это единственное, что может излечить. А вести YouTube-канал у меня не было сил. Только потом я смог только доделать ролик про военный орнамент, про трофеи, про арматуру, про лигатуру.
Тогда вопрос про современное искусство. Это искусствоведы принимают решение, что что-то уже искусство, а что-то ещё нет?
Не надо сакрализировать само понятие искусства. Человек работает с визуальным материалом, у него что-то получается. Это огромные массивы всего, это разные техники, материалы.
Мы вообще не думаем — искусство или не искусство. Какая разница? Что произойдет, если ты поймёшь, что это искусство?
Как начинает курсировать вещь — вот, что нас интересует. Каким образом вещь воспринимается, какие смыслы из неё можно вычитать. В каких галереях она выставляется, какие статьи про нее написаны, что про нее думает куратор, когда отвозит и выставляет на каких-нибудь выставках. Как эти произведения берут потом музеи, как потом искусствоведы описывают какое-то явление. Как для иллюстрации этого явления привлекают эту работу и вставляют её в свои статьи или книги. Или совсем уже высший пилотаж — как пишут учебники, используя в качестве иллюстрации феномена то или иное произведение.
То есть время покажет? Что осталось в музеях и на выставках, то стало искусством?
Сейчас ещё такой этап, когда слово «шедевр» уходит на второй план. Мне, честно говоря, как кандидату искусствоведения, который каждый день занимается искусством, не очень интересно определять — искусство это или не искусство. Я такой объём работ смотрю, что мне просто не до этого.
Когда я вижу вещь, то осознаю, что это, когда сделано, для чего, какой месседж она несет, какая атмосфера была, в каком контексте создавалась вещь, насколько она оказалась прорывной, принесла ли она что-нибудь новое, изменила ли культурный ландшафт. Кроме этого, есть еще рынок, где люди не сговаривались, просто следя за тем, как эволюционирует тот или иной феномен, принимают решение о том, сколько та или иная вещь будет стоить.

Существует уйма граффити в каждом городе, но Бэнкси знают все, хотя с точки зрения художественной ценности есть люди, которые рисуют лучше.
Очень много людей гораздо техничнее его, несомненно, но он сумел в сжатой форме донести какие-то первичные идеи, которые тревожат значительное количество людей: про любовь, про мир, про деньги, про войну, про бренность того же искусства, Он это делает быстро, внятно и доходчиво. Он узнаваем и в то же время анонимен, что тоже добавляет интерес.
«Муха» выпускает сотни художников. При этом по миру выпускается десятки тысяч художников с лучшей рукой из художественных школ и академий. Но что толку, если у них в головах пусто.
Я приехал в Берлин по визе фрилансера и я могу работать только как историк искусства, как искусствовед, пишущий книги, в этой сфере. Ни в какой другой. Здесь я познакомился, когда был куратором в двух пространствах, с огромным количеством русскоязычных художников. И я несколько раз в неделю посещал мастерские русскоязычных художников Берлина в течение года — настолько здесь огромный массив. Я общался с ними и видел, что многие пишут лучше, но в голове — пустота.
Нас сейчас в 21-м веке интересует не насколько человек техничен, а насколько он умен. Если он умён и техничен, то все складывается.
А порнография — не искусство только в России? Это от чего зависит?
Если просто порнографию выставить в музее, то зачем? Это лишь собьет людей с ритма. Должно быть нечто большее, чем просто порнография. Должна быть художественная идея.
В Хельсинки проходит выставка работ “Tom of Finland”. Там вполне порнографические изображения есть.
Конечно. В музеях тысячи экспонатов с эрегированными гениталиями в древнеримском, древнекитайском, древнегреческом искусстве, и никого это не смущает. Такие произведения есть повсеместно.
Сейчас это показатель ханжеской культуры в России и режима, который использует порнографию для того, чтобы закрутить гайки. Я эксперт по порнографии. Помимо «Последнего адреса», я также занимался в правозащитной сфере тем, что делал экспертизы для судов. По-моему, я единственный искусствовед в России, который на постоянной основе защищал художников, фотографов, режиссеров да и обычных людей, которых судили за их искусство.
Я работал с Петром Павленским, с группой «Война», написал первую экспертизу по Юле Цветковой и привлек остальных искусствоведов, по Илье Хржановскому написал экспертизу по «Дау».
Почему общество в России относится нормально к давлению на художников? Почему оно считает, что любое изображение половых органов — плохо?
Надо, наверное, поискать истоки, когда это стало табуироваться. Думаю, такая же история произошла и с матом. На филфаке есть спецкурс, где изучают историю русского мата. Преподаватели и студенты совершенно спокойно обмениваются там такими перлами, что ого-го.
То же самое происходит и с порнографией, когда в 18-19-20 веке в определённый момент в определённом обществе стали насторожённо к этому относиться — вздрагивать и иногда падать в обморок от того, что нарушало их привычный образ жизни. Это стало маркером принадлежности к определённому обществу, когда ты не ругаешься матом и не раздеваешься догола.
Если ты демонстрируешь эрегированный хуй, то это в секунду сбивает настрой, тему, разговор и переводит общение людей в совершенно другое русло. Я не против порнографии, но я понимаю, что ей нужно заниматься для определённых целей.
«Между прочим, все мы дрочим», как сказал Бродский. Это туда же.
Помимо этого, такое осуждение связывали с ограничением проявления в человеке животного начала. Культура должна была, якобы, противостоять этому и душить в человеке животное начало. Отсюда происходят запреты на порнографию, но в России они, конечно, приобретают чудовищные формы.
Я совершенно не понимаю, когда люди пишут о том, что их оскорбила порнография настолько, что они есть не могут и требуют наказать художника тюремным заключением. Я не понимаю, какой ущерб был нанесён человеку, который вдруг увидел это. Он почему-то считает, что его шок сопоставим с тюремным заключением, который может получить автор порнографии.
Это тоже лицемерие. Фактически никакого оскорбления или ущерба человек не получает, но доминирующий в обществе тренд, показать, что он такой очень правильный, очень положительный, а они развратные и плохие, стимулирует человека к этим доносам.
Есть люди, которые считают, что если они что-то увидят, то тут же это с ними и произойдет. Вот увидят они обнажённого ребёнка — стало быть, сразу станут педофилами. Если они увидят нарисованный трактор, то видимо сразу вскачут на трактор и пойдут пахать, наверное? Или увидел гей-секс и сразу стал геем.
Расскажи, как ты пришёл к идее «Последнего адреса»?
Это произошло, когда Сергей Пархоменко объявил о том, что запускает такой проект. В декабре 2014-го года я написал ему и сказал, хочу делать это в Петербурге. Он мне позвонил, мы часа полтора разговаривали. Он был рад этому и попросил меня связаться с “Мемориалом”. Я тут же пошёл к Ирине Флиге в Петербурге и запустил этот процесс.
Первые 12 табличек мы повесили в марте 2014 года за один день. Среди них было 5 на моём доме на Фонтанке, где я тогда жил. В тот же день мы повесили табличку Николаю Пунину — это была самая яркая личность того первого дня.
Первые таблички легко было размещать? Что насчет согласования?
Конечно, их размещение происходило гораздо легче, чем сейчас. На порядок легче. Я ходил по квартирам и много чего слышал. Чаще всего люди отмахиваются. Лишь единицы тебя выслушают и поставят свои подписи за размещение. Но нам и их было достаточно, чтобы повесить табличку. В каждом доме находились люди, которые соглашались, тогда было легче.
Сейчас люди уже говорят, что вы ведь против Путина, а мы должны его поддерживать. До меня доходят истории, как оставшиеся согласовывают — это просто ужас. Или то, что сейчас в Москве происходит, когда в центре какой-то мудак снимает все таблички «Последнего адреса».
Даже снимают? Уже есть прецеденты?
Еще как. В Петербурге снимали — мы восстанавливали. Но в Петербурге не так много, штук 5, наверное. А в Москве сейчас прямо волна. Полиция при этом бездействует, ничего не находит, даже если камера направлена на место, где повешена табличка.
В основе концепции «Последнего адреса» лежит закон об увековечивании памяти жертв политических репрессий. Вы ограничены временными рамками?
Да, проект «Последний адрес» ограничен годами с 1918 по 1989. Мы вешаем таблички жертвам советской власти.
Получается, что в последний адрес нельзя добавить Немцова, Магнитского, Маркелова и прочих? Нужно будет делать проект «Последний адрес» для жертв нынешней российской власти?
Да, но я не знаю, случится ли это при нашей жизни. У меня глубокий скепсис, что при нашей жизни это все закончится. Так что думаю, что это будут делать наши потомки. Главное сейчас — это запомнить, кто убивал и кого. Это тоже очень важно и сложно.
Например, было несколько волн советских репрессий. «Большой террор» мы знаем так хорошо только потому, что в СССР изменили систему документации: спускались квоты, что надо убить 1000 человек в каком-нибудь городе и 1500 человек выслать. Они отсылали списки людей, которых они убили по этой квоте и даже превысили её, обратно. Только благодаря этим спискам мы знаем про этот террор.
До этого были волны в 1934-м году, в 1932, 1928, 1923 годах. Разные по интенсивности. Они захватывали другие социальные группы: кулаки, религиозные люди, литературные кружки, отклоняющиеся от соцреализма. Все они были репрессированы, вот их гораздо сложнее найти.
Ты приходишь в «большой дом», когда ты хочешь кого-то найти, и ты должен назвать имя, фамилию, отчество, год рождения и адрес. А если ты не знаешь? У них есть эти описи, но они тебе их не показывают. Только благодаря тому, что случилось в девяностые годы, когда архивы чуть-чуть были приоткрыты, и люди пошли в них, мы знаем все это. Но и то не во всех регионах России люди пошли в архивы. Мы хорошо знаем про крупные города, а какая-нибудь Тульская область просела и мы ничего не знаем про нее.
А в Германии «Последним адресом» ты занимаешься?
Да, я занимаюсь. Ещё этим занимается Марио Банди, журналист и режиссер оперы из России, а также Анке Гизен, глава немецкого «Мемориала».
В Германии много табличек установили?
Пока нет, здесь совсем другие объёмы и совсем другие временные рамки. Мы занимаемся только временем с 1945 по 1953 год, когда людей арестовывали и уничтожали по советскому законодательству, когда их судили по ст. 58 УК СССР. Восемь табличек мы уже установили.

Много в Германии было жертв советских политических репрессий?
С учётом тех, кто был выслан в Воркуту и расстрелянных в Москве, это в районе 40 000 репрессированных. В это число входят и те, которые вернулись. Это не только убитые.
Вернёмся к твоему отъезду. Что послужило триггером?
Во-первых, это гомофобный закон. Во-вторых, я следил за трендом, который был в политике. Он мне совершенно не нравился, потому что каждую неделю схлопывалось пространство свободы. И, конечно же, Крым.
Это причины, я их понимаю. Но был ли какой-то триггер — что-то, что стало толчком, когда ты встал и пошел собирать документы на получение ВНЖ?
Если говорить юмористически, я вдруг понял, что мне не с кем стало пить. Просто оглянулся и понял, что нормальные люди исчезли. «Постарел», подумал я. Но когда я переехал в Берлин, то понял, что вот они все, с кем можно прекрасно провести вечер, выпить, поговорить на любые темы любого интеллектуального уровня. Вот они — кандидаты и доктора наук, учёные, программисты, социологи, писатели, журналисты, драматурги, актёры. Они все здесь! У меня вообще нет проблемы с тем, чтобы встретиться с выдающимся, свободным, прекрасным человеком из России.
Вот это и послужило триггером: пить стало не с кем. Из России уехали все мои друзья — человек 80 уехало. Остались единицы, которых я сейчас навещаю в России. Они, знаешь, как из газовых камер выползли. Все фиолетовые, придушенные, прибитые.
Собрать документы легко было? Долго этим занимался?
Достаточно легко. Я начал собирать их в начале 2017-го года и в ноябре получил ВНЖ и уехал. Тогда не было таких экстренных ситуаций, как сейчас: вынужденная эмиграция, мобилизация, война. Ничего такого не было, поэтому я полгодика собирал документы, потом взял термин (запись на прием в государственных органах, больницах, других учреждениях, а также вообще визит, посещение или установленное время встречи — прим. ред.) в консульстве на Фурштатской и отнёс туда документы. Ждал, по-моему, месяца три. В итоге мне сказали, что виза одобрена.
Когда переехал, легко было найти, чем заниматься, чем зарабатывать на жизнь?
Нет, конечно, вообще в социальном капитале я потерял. Думаю, что никогда уже не буду иметь то, что я имел в России. Как искусствовед, я достиг всего в России: был зав. кафедрой, ввёл самые сложные курсы у магистров, написал книги, организовывал выставки в музее, был куратором музея. Здесь у меня такого не будет. Приходилось работать по специальности, но на каких-то перехватах.
Почему так уверен, что такого не будет?
Потому что мне не хватит языка. Я работаю в поле языка. Мне никогда не выучить язык на том уровне, чтобы составить конкуренцию немецким искусствоведам. Это невозможно. Это как в журналистике и в драматургии. Я могу продолжать работать только на диаспору.
Я недавно общался с актёром, который эмигрировал из Москвы — Алексей Дедоборщ. Они открыли русскоязычный театр в Берлине — там труппа состоит полностью из сбежавших геев-актёров из России во время мобилизации.
Да, тут очень важен социальный бэкграунд, когда фраза «Хорошие сапоги, надо брать» у всех вызывает набор ассоциаций, отсылок. Для владения языком на таком уровне надо жить в этой стране достаточно долго.
Да, это просто время. Может быть я и разовьюсь годам к 60-ти. С другой стороны, моя профессия такова, что эксперт в ней чем старше, тем лучше. Но пока я не тешу себя иллюзиями, я отдаю себе отчёт, что у меня такого не будет.
Я брался за то, за се: то статью напишу про Гумбольдт-форум, то на аукцион пойду-поработаю. Кстати, прекрасное было занятие. Я пошёл в русский аукционный дом «Кабинет» работать экспертом, помогать им готовить предпродажные каталоги, атрибутировать вещи. Там я увидел, какой огромный массив русского искусства курсирует внутри Европы. Это были дягилевские сезоны: Фокин, Павлова, Бакст, бутафория Добужинского.

К слову, об отмене русского искусства. Оно жило во всех европейских странах, оно никуда не денется оттуда?
Восприятие войны здесь немножко другое — не такое острое, как у нас. И уж тем более не такое острое, как у украинцев. Здесь некоторые немцы совершенно чётко требуют: “а дайте-ка нам посмотреть на правду со стороны России, потому что мы её недополучаем!”. Поэтому здесь нет такого, чтобы запрещали кого-то из русских музыкантов или требовали отмены каких-то пьес русских драматургов.
Как к искусствоведу вопрос: Репин — украинский художник?
Я вообще этим не мыслю. Это будет последнее, о чем я буду думать — писать национальность художника.
В Берлине есть Репин?
Есть, в Барберини выставляли в последний раз.
Как подписаны его работы?
Там не подписана национальность, это исключено. Это оскорбление, это не политкорректно.
А в Атенеуме в Хельсинки подписано, что он украинский художник.
Это понятно, приграничные страны с Россией особо остро реагируют на национальность. Здесь этого нет. Это издержки войны.
Ты считаешь себя интегрировавшимся в общество в Германии?
Какое-то время назад я вообще считал, что не уезжал из Петербурга. Я каждый день общаюсь на русском, в моей квартире живут два доктора искусствоведения, бежавших из России. За время войны через мою квартиру прошло 25 человек из России и из Украины. Я даже сужаю сейчас свой круг общения, потому что мне не хватает времени на работу.
Местной русскоязычной среды мне совершенно хватает для удовлетворения моих интеллектуальных запросов, я в неё глубоко внедрён, я знаю очень многих — это сотни людей в Берлине.
Но это совсем обособленная часть немецкого общества.
Гетто, да, это — гетто.
Цель интегрироваться в немецкое общество есть? Ты знаешь немецкий язык?
Я могу говорить, я выучил его, я читаю книги по-немецки. Но это не академический немецкий язык. Я могу спокойно поговорить в аптеке, у врача, с сантехником, с почтальоном, в кафе…
Своё будущее связываешь с Германией?
Не знаю, климат меняется, а мне не нравится жара. Я очень тяжело переношу ее, поэтому я буду стараться переехать куда-то севернее: в Эстонию вернусь или перееду в Финляндию или в Швецию.
Перефразирую вопрос: планируешь возвращаться в Россию?
Вчера слушал великолепную лекцию Е. Шульман, она отвечала на вопросы после своей лекции в Стамбуле о демографии. Там ей задали точно такой же вопрос про перспективы возвращения в Россию. Она сказала, что условие номер один — он должен умереть. Второе: условия должны измениться настолько, чтобы они были закреплены ещё и законодательно. Прежде всего это связано с контролем над силовиками, с судебной реформой, чтобы можно было опять сделать Россию страной возможностей. Тогда все будет.
Пока Путин жив, пока вся эта его свора и банда у власти, я туда не вернусь. Я регулярно езжу в Россию по делам, о которых я не могу говорить в интервью, и я вижу, что там происходит. Поэтому мое возвращение в России пока исключено.
Есть какие-то временные рамки, после прошествия которых, ты не вернешься, даже если вышеперечисленные два условия выполняются? Если это произойдет через 15 лет, как думаешь?
Может быть вернусь, если ещё работа будет там. Например, сейчас мне лучше писать каталог, находясь в Берлине, поскольку в России банально нет литературы. Поток искусствоведческой литературы туда снижается последние лет 20. Сейчас из 200 превосходнейших книг, которые публикуются в мире, только одна доходит до России. А в Берлине есть все 200.
Мне, как специалисту в своей области, возвращаться даже при соблюдении условий будет сложнее. Мне заказывают каталоги для Эрмитажа про свои предметы, потому что они не могут там написать их, а я здесь пишу их как берлинский искусствовед. Меня сейчас наняла самая, наверное, богатая коллекционерка с российскими корнями, которая живёт за рубежом, описывать её коллекцию. Именно по причине того, что здесь есть литература. Помимо этого она еще так поддерживает нас. В России я бы смог написать про это на уровне студента первого курса первого семестра.
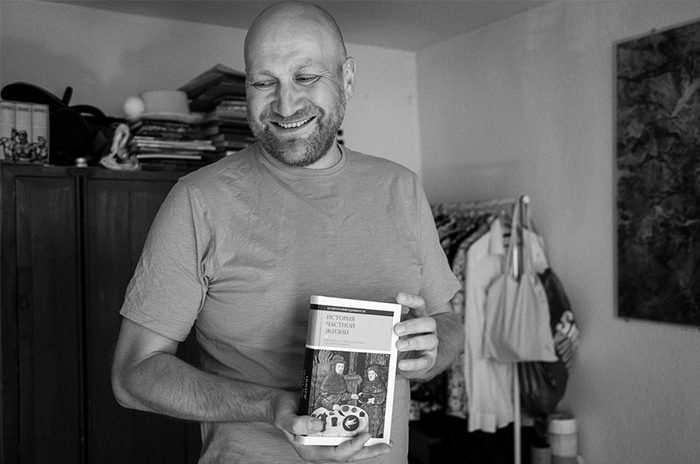
Ты уже говорил, что война шокировала тебя. Расскажи, как ты узнал о войне, как это произошло?
Я, честно говоря, не помню ничего. Я помню лишь, что я начал рыдать и понял, что это все. Я не помню. Помню только, что ходил на вокзал, видел там украинцев. Потом ко мне приезжали украинцы, приводил их с вокзала переночевать.
Я следил с ужасом за новостями. Помню, что съездил в начале марта в Петербург, участвовал там даже в митинге. А потом начал фиксировать то, как в визуальном искусстве, и в пропаганде тоже, отражается война: в России с обеих сторон (с прокремлёвской и с оппозиционной), в Украине, а также и во всем мире.
Я даже сейчас читаю лекции в Берлинском университете имени Гумбольдта. День за днём я анализирую, показывая картинки, как самые быстрые средства реагирования — иллюстрации, демотиваторы, обложки журналов, фотожабы, муралы, надписи на стенах — появлялись день за днём и отражали то, что происходит с санкциями, с литерой Z, с бабкой с флагом и т.д.
В Германии падает уровень поддержки Украины?
Число флагов, вывешенных на улицах, уменьшается. Но мой ещё висит, конечно. А так я хожу по улицам и понимаю, что сине-жёлтые флаги исчезают, люди устали. Они не готовы впускать это в свою жизнь. Для них это как сериал, который они наблюдают, подключаясь к средствам массовой информации. Это для них окей. Но как только кто-то призывает их к жертвам, то это уже не окей.
Здесь очень сильна позиция AfD (партия «Альтернатива для Германии»), они крепнут. Также сильны Die Linke (Левая партия), которые большей частью унаследовали Коммунистическую партию Германии. Например, они считают, что Германия не имеет права поставлять танки. Это то, против чего столько лет боролись и что табуировано — нельзя начать войну да к тому же против России. Это очень серьёзный аргумент.
Я слышу на улицах, когда общаюсь с немцами, эту фразу из «кремлёвских методичек» — «зачем НАТО туда совалось, зачем надо было злить Путина, мы же понимали, что Америке не надо было пугать его таким образом». Иногда немцы заявляют, что нам надоело смотреть только одну картинку и мы не знаем всех фактов. Это произошло в тот момент, когда были закрыты «Russia Today» со всеми своими дочками, а также «Первый канал». Они заявляют, что поняли, что так нельзя, потому что свобода слова важнее и что сейчас их подключают только к однобокой подаче информации.
А нужно их было закрывать?
Я считаю, что нужно. На период войны — да, потому что там такая оголтелая пропаганда шла.
Но такие запреты не свойственны для либеральных западных ценностей. Кажется, что Путин умудряется заставлять западные европейские правительства играть по своим правилам, приучать к своей логике.
Да, абсолютно так. Но они, конечно же, приняли такое решение, учитывая то, как меняется настроение в обществе, какими фразами оперируют путинферштееры.
На счет культуры отмены. В Германии заметна отмена всего русского?
В Германии табуировано судить о человеке по языку, по национальности или по паспорту. Они все это отлично прошли, это вбито в их головы, поэтому они ниоткуда не будут выгонять русских и будут продолжать принимать их.
Они понимают, что будет сложнее отсеять хороших русских от нехороших, когда они, например, выдают гуманитарные визы и рассматривают кейсы по убежищу. Но чтобы, как призывает часть украинского общества, закэнселить русских вообще — об этом не может быть никакой речи. Будет обратная реакция.
У меня есть знакомый, который руководит одним очень крупным институтом, занимающимся изучением постсоветских стран. Он рассказал, что они открыли позиции и выдают стипендии, предназначенные для изучения постсоветского пространства, которые были закрыты в девяностые годы, в том числе и для изучения русского языка. Это было свёрнуто в девяностые годы и сейчас, с войной, они поняли, что нормальных экспертов нет — они просто не понимают, что происходит с Россией, с Украиной, с другими постсоветскими странами.
Он пригласил украинцев, а также российских оппозиционеров, бежавших из страны. В итоге украинцы встали в позу и сказали, что с россиянами работать не будут, что их надо выгнать. Он в свою очередь ответил им, что подобное недопустимо. Это равноценно тому, что он бы в Швейцарии во время Второй мировой войны остановил бегущих от рейха евреев и сказал, чтобы они возвращались в Германию свергать Гитлера. Это просто недопустимо.
Как ты считаешь, ЛГБТ+ людям в России стоит сейчас оставаться?
Я бы вопрос так не ставил, потому что есть люди, которым невозможно уехать. Я общался с “Действием” (бывший комьюнити-центр в Петербурге — прим.ред.) и когда в Петербурге к ним приходил, то там сидело человек 7, из них половина — транс-люди. Я им рассказываю, как можно им уехать, что я помогу, что можно получить гуманитарные визы.
Я даю людям контакты и говорю, что им помогут уехать, а они начинают рыдать, они бессильны. Некоторые из них еле-еле собрали денег на то, чтобы в Петербург переехать, а тут Германия! Для них это кажется невозможным.
Дело тут не только в деньгах. У некоторых родителей не оставить, у других обязательства по ипотеке, они не представляют себя в личине мигранта. Некоторые говорят, что будут принимать ситуацию такой, какой она будет. Большая часть оппозиционеров осталась в России, она не может уехать.
Не в этом вопрос — стоит или не стоит уезжать. Они будут погибать в России, будут камуфлироваться. Мы проходили эти истории. Мы знаем по многим культурам, что геи будут прятаться. Это достаточно легко сделать. Открыто геи стали жить совсем недавно, а до этого тысячелетия геи жили в таком состоянии. У нас наработаны правила, мы знаем как это делается, как подыгрывать обществу в его интересах и вести двойную жизнь, когда приходится общаться только по интересам с людьми своего круга, ходить только к своему парикмахеру, выпивать только со своими, ездить на рыбалку только со своими, проводить все остальное время только со своими. Что, собственно, сейчас и делают петербургские ЛГБТ: они полностью отрезали сами себя от тех людей, которые вне нашего пузыря. Только в магазине что-нибудь покупают или в автобусе их видят, а все остальное время общаются между собой и поддерживают друг друга.
Как ты считаешь, в России мирный сценарий смены режима возможен?
Я не знаю. Я не политолог и не могу делать какие-то прогнозы. У меня в голове пока только, как немцы говорят, биологический фактор. Когда он умрёт, то будут какие-то изменения. Но тут же вспоминаются исторические параллели, которые всегда условны: после смерти Ленина пришёл Сталин, после смерти Сталина режим в целом тоже не изменился, не считая оттепели.
Тогда вернемся к искусству. Ты исследуешь современное агитационное искусство. Мемы и анекдоты создает не пропаганда, их генерирует народ?
Абсолютно. Смех и хохот — это реакция народа, пропаганда так не умеет работать, у нее так не получается.
Но есть мемчики и анекдоты вполне себе прокремлёвские. Получается, в России достаточно людей, которые поддерживают в том числе и эту агрессию. Поэтому смерть Путина может не привести к смене режима.
Но война точно остановится, война — это его личное дело.
Завершение войны в восприятии народа станет очередным унижением. Не сплотит ли это в очередной раз вокруг режима глубинный народ в обиде на весь мир?
Не думаю. Обида, конечно, будет, но у народа очень короткая память. Это отойдет на второй план, когда они канал переключат. Сейчас народ развлекается по другой программе. Конечно, кто-то будет помнить и им нужно будет объяснять или металлическим ёршиком мозги прочищать.
Ты оптимист? Ты считаешь, что в ближайшие 10 лет мы увидим Прекрасную Россию Будущего?
В качестве точки отсчёта для вообще всего я принимаю самый негативный сценарий. Поэтому любое изменение, как правило, меня радует, потому что оно всегда происходит в лучшую сторону. Даже когда я просто проснулся — это уже радость. Позавтракал — боже мой, как здорово!
Выражаем благодарность за предоставленный материал
журналисту Валерию Клепкину и фотографу Никите Эрфену